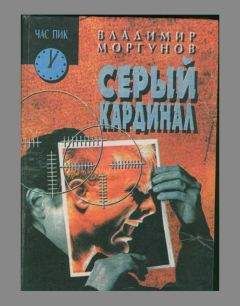Валериан Скворцов - Укради у мертвого смерть
За спиной Клео были пустыня и горы. Теперь он пересекал море. Он казался себе крепким духом, способным заработать бесчисленные богатства и вернуться домой, как сказал покойный мастер-караванщик Цинь, богатым и сильным...
А Лин Цзяо слабел. Возможно, выматывала рана. Клео подметил вялость отца в Хайфоне, где бывший депутат приобрел странную привычку следить по газетам за скачками на ипподроме. Он делал ставки, словно находился на трибунах, тщательно взвешивая возможности лошадей и жокеев. Хватал следующие выпуски, чтобы радоваться несуществующему выигрышу или впадать в отчаяние из-за такого же проигрыша. Рассуждал о несправедливости судьбы, осуждал взяточничество владельцев конюшен, пересказывал сплетни о бесчинствах зазнавшихся чемпионов. У отца появилась и другая странность — закрывшись на несколько замков, пересчитывать на полированной деревянной кровати слитки. Потом забросил и бега, и пересчитывание. Будто спохватившись, засобирался дальше на юг.
В Сайгоне, где они устроились в Шолоне, китайской части города, близ церкви Святой Катерины, скучавший отец увлекся вырезанием передовиц из китайских газет. Отдельно складывались такие, в которых два конкурирующих листка поносили друг друга. Началу коллекции послужили воспоминания в «Южном всемирном вестнике», как сказал отец, самозванца. Некто, представлявшийся депутатом парламента, писал: «27 декабря 1949 года Чан Кайши телеграфировали о падении под ударами коммунистов крепости Чэнду. Континентальная часть родины, таким образом, генералиссимусом потеряна. Очевидцы свидетельствовали, однако, о присутствии духа у вождя при трагическом известии. Он сказал сыну: «Отправимся-ка порыбачить!» Первый же заброс сети в озеро принес его превосходительству рыбу в пять футов длины. Подобных карпов не вылавливали лет сорок. Чан Кайши ответил на поздравление сына со скромной улыбкой: «Это предзнаменование. Последнее слово не сказано».
Разменивая очередной слиток на кредитки, Лин Цзяо бормотал:
— Последнее слово не сказано!
Пекинский диалект, настоящий китайский язык, на котором говорили Лин Цзяо и Клео, раздражал соотечественников в Сайгоне. Это вынуждало держаться особняком. Когда одиночество становилось тягостным, меняли квартиру. Переезды, однако, не улучшали жизни. Селились в другом узком переулке со сточными канавами, по которым несло мыльную воду, отбросы, где в подвалах дрались крысы, а окна на уровне третьих этажей словно паутиной затягивало электропроводкой, несло рыбным соусом и многодетные соседи спали на нарах в три яруса, иногда по очереди.
В день, когда китайским эмигрантам по настоянию генерального консула Тайваня, именовавшегося Китайской республикой, на территории Французского Индокитая предоставили привилегии, Лин Цзяо позвонил в консульство с почты и напомнил о своем депутатстве. Вежливый чиновник продержал его с трубкой возле уха без ответа полчаса, после чего раздались сигналы отбоя... Результат унижения, которому подвергся отец, оказался странным. Бывший депутат отправил сына в школу, где преподавали на французском.
Но чему было учиться у напыщенных преподавателей-вьетнамцев? Клео выработал навык, уставившись на классную доску, дремать или размышлять о своем. Оживлялся иногда на математике. Его интересовали задачи про такое-то число мешков с рисом, купленных за столько-то пиастров, перевезенных на рисорушку и проданных за такую-то сумму и - «сколько составила разница». Из всех в классе Клео один пил, как называется эта разница. Прибылью.
Дважды или трижды в неделю ездил на паровом трамвае во французскую часть Сайгона. На бульварах Соммы, Шари и Боннар, на проспекте Зиа Лонг, площадях Гарнье и Ниньо де Боэн, на узкой роскошной Катина жили иначе. У собора возле главного полицейского комиссариата Клео уловил однажды аромат духов. Ему исполнилось семнадцать. Вьетнамка, источавшая райский фимиам, уселась в крохотное такси и укатила вниз по Катина в сторону порта. Там высилась гостиница «Мажестик», в которой обретались счастливцы. Они обладали золотом, как отец, но и наслаждались, растрачивая его.
Иногда Клео усаживался в липучее пластиковое кресло в холле гостиницы «Каравелла» в верхней части Катина. Рубашка и брюки из белой фланели, европейская шляпа с синей лентой служили достоверным пропуском. Подслушивал, запоминал, сопоставлял внешний вид людей и повадку. Пробирался в «Мажестик», вращающиеся двери которой охранял европеец. Остальные отели — «Восточных добродетелей» и «Новый сад несомненных достоинств», прибежище состоятельных холостяков, освоил без особенного старания.
Основной вывод относительно европейцев заключался в том, что большинство из них, оказавшись в Азии, не отличают правду от лжи.
Обычно его принимали за сына состоятельного купца, гида, иногда просто полицейского осведомителя. Удавалось многое, если оставаться внутренне хладнокровным и внешне невозмутимым. Однажды в ливень, накрывший Сайгон, он провел два часа в операционном зале «Индокитайского банка». Тревоги не вызвал даже у французских жандармов, дежуривших возле стальной сетки, за которой хранились деньги и ценности. Он понял: этот банк — место белых, и если его охраняют, то от белых же...
Совершить следующий шаг оказалось достаточно просто. Воры-азиаты шныряли на рынках, улицах, подстерегали жертвы в магазинах и ресторанах, кишели на толкучках. Если в роскошных гостиницах и, конечно, банках водились жулики, они, несомненно, были белыми. Клео иногда думал, что он мог бы по внешнему виду выявить некоторых. Но полной уверенности не ощущал. Трудным оказывалось подметить детали европейского костюма или повадку. Французы казались грубы на один манер и одинаково роскошно одеты, если носили галстук... Клео не решался идти на сближение, даже когда чувствовал и видел, что перед ним действительно вор, белый вор.
Но, как говорили в Шолоне, в любой местности каковы лягушки, таковы и птицы.
— Эй, желтенький! — окликнул Клео однажды француз в синей панаме, надвинутой на толстенный нос, из-под которого топорщились седые усы с капельками ванильного мороженого. Фланелевый костюм сидел на нем в обтяжку. — Примечаю, крутишься тут частенько, а? В услужении?
Клео молчал.
Слизав розовым языком остатки мороженого с усов, Мясистый нос сказал:
— Хочешь заработать?
Клео кивнул.
Требовалось сходить на почтамт напротив собора и сдать в третье окно синий конверт.
Когда Клео предъявил конверт, ему вручили взамен, ничего не спросив, такой же. Потолще. Он принес его на террасу кафе «Каравелла», где Мясистый нос пил коньяк с содовой. Француз разорвал упаковку, проверил, пересчитав, оказавшиеся там банкноты.
Клео не обиделся.
Пятисотенные, которые считал Мясистый нос, были коричневого цвета. Плотные, рыхлой бумаги. И без портрета. В городе же ходили сине-желтые, пахнущие воском и хрусткие, с изображением грудастой Свободы в колпаке с притулившимися к толстоватым бедрам азиатскими младенцами — Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом.
Мясистый нос протянул сотенную.
— Приходи через неделю, — сказал он.
— Расплатись со мной вон теми, — кивнул Клео на конверт.
— Ба, да ты не немой! И не дурачок... Ну, идет. Я дам такую купюру, но с тебя причитается в этом случае, желтенький сынок, сдача. Четыре сотни. Купюра особенная, да не ломай головы... Все по справедливости. Отдай бумаженцию папочке. Он похвалит.
Клео насобирал по карманам четыре сотни.
В отделении банка «Небесная гарантия преуспевания» на улице Благочинных философов в Шолоне он попросил разменять купюру.
— Мальчик, — сказал приказчик. — Сожалею, но эти деньги отменены... Ненавистные японские оккупанты выпускали их до сорок пятого года, они объявлены французским казначейством недействительными. На улице, но не здесь, ты можешь продать эту купюру за двести пиастров, ну двести пятьдесят... Вот и все.
— А у вас есть такие, господин?
— Да, девять штук.
— Отдайте мне по сто восемьдесят?
— Я тебя предупредил относительно этих денег... Согласен. Но скажи о том, что ты собираешься сделать, почтенному бывшему депутату, твоему уважаемому отцу. Ты несовершеннолетний, и я не хочу выглядеть ловкачом.
Клео сбегал домой. Где лежат деньги отца, который ушел за вечерними газетами, он знал.
Через неделю Клео поджидал у веранды «Каравеллы» Мясистого носа с утра.
По дороге на почтамт внимательно осмотрел синий конверт. Никаких надписей или пометок. На полученном взамен ханойский штемпель.
Пачка в двести — двести пятьдесят японских банкнот и листок с мелкими буквами скользнули в короткие, словно обрубки, пальцы француза.
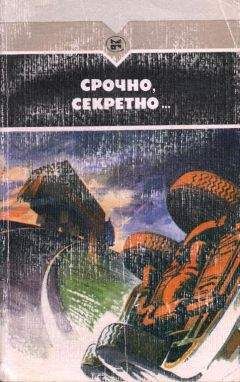
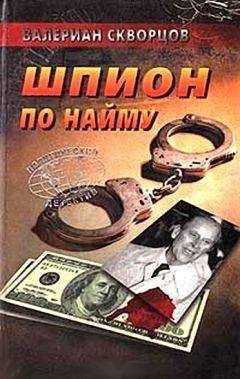
![Росс Томас - Смерть в Сингапуре [сборник]](/uploads/posts/books/13740/13740.jpg)