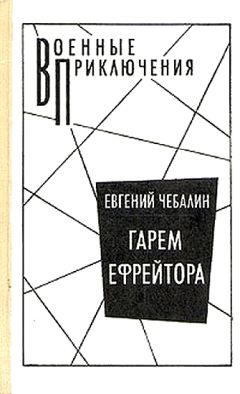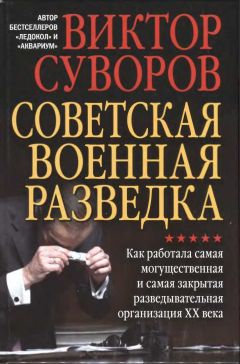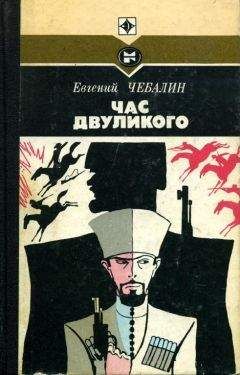Евгений Чебалин - Гарем ефрейтора
– Ясно, – озадаченно спросил Ушахов. – Выходит, я…
– Вот именно, – Аврамов поднялся. Стирая с лица масленое удовольствие, согнал под полушубком складки гимнастерки на спину. Выпрямился. Велел: – Капитан Ушахов, встаньте.
Сгустилась в его голосе суровая озабоченность, и Ушахов, вовремя сдержав в себе прущий наружу ернический настрой, молча и озадаченно поднялся.
– Приказом представителя Ставки на Кавказе генерал-лейтенанта Серова капитану Ушахову присвоено очередное офицерское звание – майор. За выполнение особо опасного задания в немецко-бандитском штабе майор Ушахов награжден командованием НКВД орденом Боевого Красного Знамени. Поздравляю.
– Спасибо, товарищ полковник, – не по-уставному, вяло, на глазах угасая, отозвался Ушахов: напомнили слова Аврамова об опустевшей республике, а ныне Грозненской области.
– Ну и последнее, – достал из кармана гимнастерки, развернул лист бумаги полковник. – Тут подпись Серова… Майору Ушахову разрешено дальнейшее прохождение службы в Грозном, как не подлежащему выселению.
Сколько времени цыганил у Серова, хлопотал, готовил эту сцену Аврамов. И вот теперь, разгрузившись от принесенных Ушахову благ, щедро увенчав ими боевого побратима своего, стоял и ждал Аврамов нормальной, заслуженной реакции новоиспеченного майора, которого ждала вдобавок встреча с Фаиной – легальная, под государственным теперь покровительством.
Однако что-то затягивалась пауза, не спешил ликовать боевой побратим, все заметнее каменел лицом. Спросил, отводя глаза:
– Фаину со мной отпустят?
– Куда?
– Туда, – помолчав, переведя дух, отозвался Шамиль: не повернулся язык назвать девятый круг вайнахского ада – Казахстан.
– Ты что… очумел? – брякнулся с праздничной высоты полковник, ошпаренный обидой. – Что ж ты меня за последнюю курву держишь? Чего городишь? Подпись на той цидуле не рассмотрел? Серов. Се-ров! Разрешено прохождение службы в Грозном. Дошло? Да очнись ты! Кончено все. Передых у тебя законный, заслуженный! На, возьми бумагу.
– А… им? – тихо и ненавистно уронил Ушахов: штыком под лопатку воткнулась фамилия Серова.
– Кому?
– Тем, что в Казахстане. Брату моему с двумя орденами и при одной руке. Когда им передых обломится. Аврамов? Чем я лучше брата своего, других фронтовиков, что ноги, руки, жизни на ваших полях потеряли?
– На… наших? – с придыханием переспросил Аврамов.
– На ваших, Аврамов! Немец на вас напал! Чем я лучше остальных? Тем, что два года угробил на эту падаль – Исраилова? А зачем? Чтобы вот эти списки добыть? Ну, добыл. Для чего? Чтобы переписанных здесь выловили – и по загонам, на сортировку: кого к стенке, кого в Казахстан. Мы же дикари, бандиты, с нами разговор короткий!
Ты кто такой? Серов твой – кто такой? Кто вы здесь, чтобы нас в сортировку пулеметами загонять: мне – писулю с разрешением на двух ногах в Грозном ходить, а Абу – в скотский вагон… Плевал я на ваше разрешение! Я без него человек!
Он рванул лист, разодрал на клочки, бросил их на пол.
– А орденок мой пусть Серов себе на задницу повесит, он из русского дерьма, из крови сляпан! Кто вы есть, чтобы распоряжаться нами, как скотом, кто вас сюда звал? Отвечай!
Кричал на полковника невменяемый, дикий человек, с белым лицом, со стеклянными глазами. Все страшнее становился этот крик, ибо выла и бесновалась в человеческой плоти немереная боль по сметенному бериевской метлой народу своему.
Эта каменная боль спрессовалась в нем после двадцать третьего февраля сорок четвертого, когда разнесли по горам уцелевшие в облавах беглецы и абреки картину выселенческого апокалипсиса. С той поры спеклось в Ушахове оцепенение ненависти, засело в груди угластой ледяной глыбой.
Но до упора была заведена в капитане азартная сталь деловой пружины, и столь быстро пошел раскрут этой пружины после появления в эфире Осман-Губе, что болевой комок опустился на самое дно.
И вот теперь все разом кончилось. Нет Исраилова, отпала и улетучилась двухлетняя тяжесть чужой личины, что носил не снимая, и обдали жаром аврамовские горячие вести. Обдали, оттеплили – и поднялась, душит, жжет, загоняет в безумие та, утопленная на время тоска.
Не Ушахов мордовал Аврамова, бил наотмашь чеченец – русского. Осколок растоптанной нации впивался в подошву того, кто топтал.
Понял это Аврамов и терпел, сцепив зубы изо всех сил, а когда сил уже не осталось, терпел сверх того.
Но вот замолчал, изнемог Ушахов, подвесив в воздухе нещадный свой вопрос: «Кто вас сюда звал?»
– Я… отвечу, – выплыл из своего полуобморока Аврамов. – Я сейчас, подожди. Дай передохнуть. Я тебе сказочку одну расскажу. Есть на свете машина. Управляют этой машиной люди – не люди… Как тебе сказать? В общем, страшного ума прохиндеи на двух ногах. У них одна цель на все времена: мир под себя подмять, чтобы сесть ему на шею и командовать. И для этого они изобрели страшным умом своим машину. А в ней две самые главные шестеренки – денежная и карательная.
Так вот, запускают эти самые прохиндеи свою машину в какое-нибудь государство и всех несогласных ползать перед нею на карачках берут в оборот: кого купят, а кто не продается – того к стенке. Одна Россия не прибранная к двадцатому веку осталась, торчит, дурища охальная, не согнешь, не проглотишь, в прохиндеевскую веру не обратишь.
И запустили прохиндеи в Россию самую большую и хищную свою машину. И пошла она молоть в своих шестеренках народ российский, только косточки хрустели да кровища брызгала. Более всего интеллигенту и крестьянину досталось, поскольку первый быстрее всех прохиндеевский план раскусил и наизнанку его вывернул, а крестьянин более всего сопротивлялся, да так, что скоро машина эта аж буксовать стала, в мясе и кровище крестьянской увязнув. А он, лапотник, хлебороб, все живой, все за землю свою цепляется, обычаи и язык свой не забывает. И никак его, корневого, скопом стоящего, не выкорчуешь.
Тогда спустили прохиндеи другую тактику своей машине: разделить российский скоп на отдельные человеко-нации, чтобы легче ломать их поодиночке да чтобы они сами себя ей в помощь ломали.
Ну-ка вспомни, кто туркмен-басмачей истреблял? Русский солдат. Кто тамбовский мужицкий бунт усмирял? Донской казак. Кто донского казака как класс ликвидировал, чьими руками? Руками москаля, пензяка, ярославца, питерского пролетария. Кто питерские, московские бунты давил? Казак и Дикая дивизия с Кавказа. Кто чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, татар выселял? Православный славянин, присягой да трибуналом скованный.
Всех нас по нациям, как гончих по псарням, растаскивают, в чужой крови пачкают, друг на друга науськивают, чтобы лаяли и скалились мы по-собачьи. А когда окончательно растаскают, справиться с нами машине – раз плюнуть.
Но ты заметь, Шамиль, вот что заметь: вертятся истребительные шестеренки этой машины по своим подлым законам, нет у них разделения по национальному признаку. Нет у них нации, роду-племени.
Берия – мингрел, Кобулов – армянин, Меркулов и Колесников – русские, Гачиев – вайнах. Кто были Бела Кун и Землячка, истребившие в Крыму сто тысяч русского офицерства? Венгр и еврейка. Кто Ягода? Еврей. Но это их вторые национальности, а главная – шестеренка. Шестеренки они по главной своей национальности, истребительные шестеренки. Исраилов – той же породы.
И им позарез наша вражда нужна, чтобы на меня, русского, мой боевой побратим, чеченец Шамиль Ушахов, озлобился, чтобы остервенели мы друг на друга, забыли все, на чем людское братство держится: честь свою, совесть, обычаи предков и язык, культуру свою.
Ну так что, уважим этот истребительный механизм, оскалимся и разбежимся? Остервенимся и оскотинимся на радость ему? Озлобимся и разведем детей и внуков наших во вражде?
Сел на топчан и долго сидел Ушахов, обессиленный и оглушенный приступом своим, а затем сказкой Аврамова. Все, что услышал – об этом и раньше разрозненно думалось, – ломало сомнениями. И вот теперь собрал все полковник воедино, слепил в один горчичный пластырь и приклеил его к очищенной, кровоточащей душе – хоть и врачевало, но жгло до крика.
Отвернувшись, терпел свою муку Ушахов. И когда чуть-чуть отпустило, повторил он еще раз то, что донимало более всего:
– Фаину со мной… отпустят?
– Сделаю все, чтобы отпустили, – отвел глаза и… попрощался Аврамов.
– Пойду я, – переступая с ноги на ногу мучился Шамиль. Затоплял тяжкий стыд за истерику, за крик свой, сплавленные с разлукой, что надвигалась.
– Ладно. Ну… пойду, – никак не мог оторвать ног от пола Шамиль.
– Ни пуха. Осторожней там, в дороге. В случае чего на Серова… – осекся Аврамов. – На меня сошлись.
Не выдержал Ушахов. Пряча лицо, шагнул к командиру, обнял. Постояли.
– Напиши оттуда, как вы там будете, – попросил Аврамов. Вскинулся, вспомнив: – Кстати! Черт, забыл! Фаина сына родила!