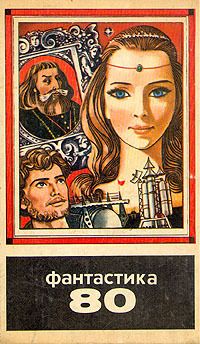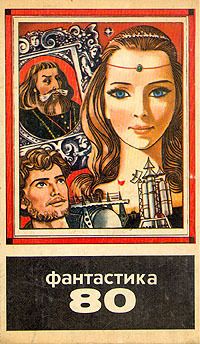Вячеслав Денисов - Презумпция виновности
С секунду подумав, он чертыхнулся, вытащил чемоданчик и понял, что отделаться от него нужно подальше от дома.
Снова обойдя дом, он увидел у последнего подъезда фронтовика дядю Федю. Этот «дядя» годился Сашке в дедушки, но так уж повелось – дядя и дядя…
Дед Федя совершал малопонятные Пикулину действия: к форкопу его старенького 412-го «Москвича» был закреплен прицеп «Скиф», и этот прицеп был доверху наполнен… кирпичом.
Сунув кейс под мышку, Сашка приблизился.
– Дядь Федь, ты что, переезжаешь?
Испуганно вынырнув из салона, дед с седыми мохнатыми бровями буркнул:
– Тихо, шельмец… Почему решил?
– Да вот, вижу, квартиру куда-то по частям перевозишь. Где кирпича-то набрал? Тут целый поддон, четыреста штук, не меньше. А при его цене это никак не меньше двух пенсий человека, бравшего Вену и Будапешт…
– Тсс!.. – прошипел дед Федя, стрельнув глазами куда-то в глубь двора. Санька проследил за его взглядом и увидел продукт «точечной» застройки Холмска – возведенный под крышу шестнадцатиэтажный дом.
– А-а, понятно. – Санька подтянул сползающий кейс и кашлянул. – Статья сто пятьдесят восьмая, часть третья. От пяти до десяти. С конфискацией имущества или без таковой.
Старик оттолкнул Пикулина от прицепа и стал потуже натягивать брезент на разложенном кирпиче.
– Это тебе, шельмец, от пяти до десяти. А мне – амнистия в связи с шестидесятой годовщиной.
– С каких это пор на день рождения амнистии объявляют? – незаметно развигая сломанные замки чемоданчика, удивился Сашка. – Мне, например, никакой амнистии не было, хотя как раз на именины и взяли.
– Сопля! – рассердился старик. – Шестьдесят лет Великой Победы! Иди отсюда, не гневи.
– Воровать, дед, тоже с умом нужно, дабы не вводить судей во искушение. Они, между прочим, тоже не все на фронте были и годовщины считают. Это что валяется?
Дед Федя посмотрел под колесо прицепа. Там лежал кирпич.
– Тьфу ты, черт! – Он нырнул под прицеп и быстро упрятал кирпич под брезент.
Теперь полегчавший кейс можно было опустить в руке, придерживая отваливающуюся его крышку указательным пальцем.
– Это называется, – назидательно говорил Пикулин, наблюдая, как старик спешит сесть за руль, – оставление вещественных доказательств на месте преступления. Я тебе честно скажу, дядя Федя, ваше поколение – ни украсть, ни покараулить. Все бы строили, строили… Сначала Власть Советов, потом плотины, потом коммунизм… И, наконец, построили…
– Пшел отсюда! – гаркнул вконец рассерженный старик, и его «Москвич», хлопнув дверцей, как люком чердака, взревел изношенным двигателем.
Дойдя до помойки во дворе дома в соседнем квартале, Сашка опустил кейс в один из баков. Вынул из кармана телефон, набрал номер, обрадовался, что директор взял трубку сразу.
– Это я, Бронислав Олегович, Пикулин. Заболел я. Не выйду завтра. Грипп.
– Куриный, что ли?
– Анализы еще не готовы.
– Я через трубку эту птичью болезнь слышу – «перепил» называется. Не выйдет он!.. А кто выйдет? Я за руль сяду?
– Нет, я, наверное, сяду. Заражу человек тридцать холмчан и гостей города гриппом, а в конце смены потеряю сознание и устрою ДТП с летальным исходом для клиента. Причем, как назло, окажется так, что это будет кто-то из Горсовета. А когда меня придут брать двое в синем и двое в штатском, скажу, что директора о возможных последствиях я предупреждал. Но ни он, ни врач парка…
– Сколько болеть будешь? – присмирев, поинтересовался Илюшин.
– Дня три, никак не меньше. Хотя говорят, что с гриппом лежат две недели.
– На премию за январь не рассчитывай.
– Права не имеете. Я в Европейский суд по правам человека подам.
– Саша, – рассердился Илюшин не хуже деда Феди, – ты как отсидел, сразу такой юридически грамотный стал!
– А у нас по лагерному радио пять лет Уголовный кодекс читали. От слов «Принят Государственной Думой двадцать четвертого мая одна тысяча девятьсот девяносто шестого года» до статьи триста шестидесятой «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Я посчитал – триста шестьдесят два раза прочитали. Говорят, кто пятнашку отсидел, потом экстерном юрфак МГУ заканчивали…
– Ладно, лечись, – разрешил Илюшин. – А то я вижу, у тебя на фоне гриппа обострения начались.
Закончив разговор, директор мучил себя только одной мыслью: «Кто сядет вместо Пикулина?.. Кто сядет?..» Едва он положил трубку на рычаги, его телефон затрещал пронзительной трелью. Раздраженно сдернув трубку и не теряя назойливой мысли, он рявкнул в нее:
– Кто?
– Что значит – кто? – удивленно пробормотал некто низким мужским баритоном. – Я же не в дверь вам стучу…
Часов до четырех Сашка бродил по улицам без конкретной цели. Как ни противился самому себе, а тысячу из заначки под подоконником взять все-таки пришлось. Ходить по городу с пустыми карманами и глазеть на витрины ему не улыбалось, да и чувство голода одолеет. Отсчитав двадцать полтинников, он сунул их в карман перед тем, как заняться в квартире выработкой легенды. Сейчас выходило, что совать тысячу в карман гораздо легче, чем выстраивать себе обоснованное алиби.
Около пяти часов, присев на лавке у городского сквера с бутылкой «Миллера» в руке, Сашка стал ощущать легкий дискомфорт. Это как если бы в камере начать раздавать карты, а шнырь, который был выставлен у дверей на случай шухера, вдруг уснул. И теперь в дверь камеры смотрит не его глаз, наружу, а глаз надзирателя, вовнутрь.
Пять лет заключения приучили Сашку к особым правилам поведения в неприятных ситуациях.
Во-первых, никогда нельзя идти на открытый конфликт.
Во-вторых, никогда нельзя суетиться и выдавать своих истинных чувств и мыслей.
В-третьих, никогда и ничего не нужно бояться без особых на то причин.
И, наконец, в-четвертых. Никогда и ни при каких обстоятельствах никому нельзя верить. От ментов до адвокатов и подельников. Верить нужно только себе даже в том случае, когда поступаешь неправильно, ибо ты единственный, кто тебя никогда не продаст.
Существует еще много правил, которые Сашка приобрел за колючей проволокой и высокими стенами общего режима, но эти четыре универсальны и подходят ко всем ситуациям. Как один и тот же ключ подходит к «собачникам» всех милицейских «уазиков», или один и тот же ключ подходит ко всем милицейским наручникам.
Дискомфорт, он был. Причем Сашка чувствовал его именно как взгляд надзирателя в «глазок» камеры в тот момент, когда в камере происходило что-то, не укладывающееся в распорядок дня тюремной администрации.
Раскинув по спинке лавочки руки, Пикулин приобрел вид расслабившегося под действием хорошего пива человека и заложил ногу на ногу. Рабочую куртку, ее заднюю часть, жгло так, что ему хотелось немедленно обернуться, чтобы увидеть того или тех, кто проявляет к нему такое явное внимание.
«Сглазите, сволочи, – спокойно подумал он. – А если вот так…»
Резко поднявшись, он развернулся кругом и слегка потянулся, словно распрямляя затекшие на морозе длани. Вся панорама за его спиной теперь открылась перед ним, он охватил ее полностью и сразу.
Увидел он двух девчушек, сидящих за его спиной на такой же голубой и такой же обшарпанной лавке, молодую пару, шествующую мимо них под руку, и двух молодых людей, сидящих по правую руку от девчушек на той же лавке, но не имеющих к указанным особам никакого отношения. Опытному зэку, как и опытному оперативному работнику, хорошо известно, что искать в данной ситуации нужно того, кто попытается первым сделать вид, будто резко поднявшийся с лавки парень с бутылкой пива интересует его меньше всех. Не менее всего, а именно – меньше всех окружающих.
Девчушки взгляд не только не оторвали, но даже улыбнулись.
Пара влюбленных посмотрела на него одинаково сожалеюще – у Пикулина не было пары, значит, он был самым несчастным на свете. И они, прежде чем отвернуться, даже не взяли на себя труд скрыть это сожаление.
А вот двое молодых людей сразу посмотрели в стороны. Причем сделали это настолько глупо, что Сашке даже захотелось улыбнуться. Один из сидящих посмотрел направо, второй – налево. Они просто сидят и скучают! Два крепких мужика лет под тридцать, в дорогих кожаных куртках, норковых шапках и дорогой обуви, пришли сюда, чтобы посидеть вместе и помолчать. Но в этом случае даже пидоры что-то бормочут. Или это поругавшиеся пидоры?
«Миллер» слишком дорогой напиток, чтобы его выбрасывать. Пить Сашке не хотелось, но если бы он опустил полбутылки пива стоимостью в доллар в урну, он тут же нарушил бы свое второе правило. А потому пришлось допить прямо из горлышка, стоя, после чего с сожалением посмотреть на золотистую этикетку, крякнуть и положить тару в урну.
Нужно закурить, не сходя с места. Нет ни одного мужика, которому сразу после опустошения пивной емкости не захотелось бы закурить. Пусть теперь эти двое фраеров подумают, будто он чувствует что-то еще, помимо дичайшего мужского кайфа! Даже в голову им это не придет.