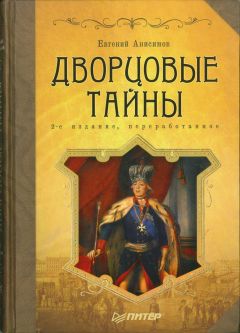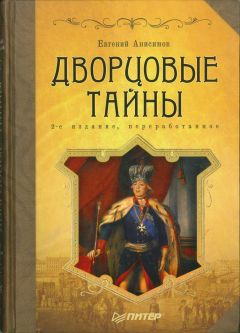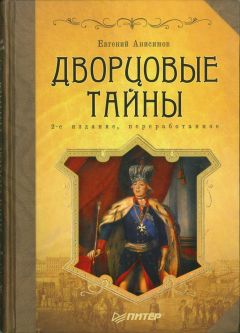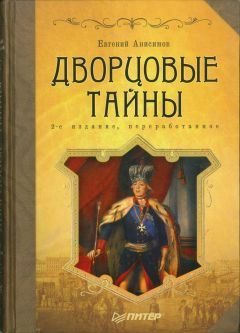Евгений Сухов - Бриллиантовый крест медвежатника
— Мамай, Мамай, это мы, — сказал Родионов тоном, каким успокаивают испугавшегося спросонья ребенка.
— А-а, хузяин, — протянул старый слуга и спрятал финку в голенище сапога. Его широкоскулое лицо с жесткими морщинами приобрело вид, который хорошо знающие его люди назвали бы крайне приветливым. Рот расплылся в улыбке, обнажив крупные желтые зубы с частыми щербинами.
— Ты когда соберешься к зубному лекарю? — улыбнулся в ответ Савелий.
— Никогда, — сошла улыбка с лица Мамая. — Я их ощень баюс.
Савелий коротко хохотнул.
— Тише ты, — дернула его за рукав Лизавета. — Люди же спят.
Савелий кивнул и невольно посмотрел на спящих певичек. Их невинные, во сне почти детские мордашки абсолютно контрастировали и с их округлившимися женскими фигурами, и с их дневными, а главное, ночными занятиями.
— Ты чего уставился на этих девиц? — снова дернула Савелия за рукав Лизавета. — Смотри у меня, — добавила она, и в ее голосе послышались смешливые нотки.
— Ничего я не уставился, — в тон ей ответил Савелий и, обернувшись к Мамаю, уже серьезно сказал: — Дело у меня к тебе, Мамай.
— Слушаю, хузяин.
— Мамай, сколько раз я тебя просил не называть меня хозяином?
— Мыного, хузяин, — осклабился слуга.
— Но ты продолжаешь свое. Пойми, мне неловко.
— Понимаю, хузяин.
— Тьфу ты, — сплюнул в сердцах Савелий. — Ладно, поговорим об этом позже. А теперь слушай. Сегодня после ужина двое иностранных артистов давали в гостиной первого класса представление. Мы тоже на нем были. В одном из их номеров участвовала Елизавета. После чего у нее пропали брильянтовые сережки.
— Ай-яй-яй, — покачал головой Мамай. — Вас обидели, хузяйка?
— Конечно, ее обидели, — не дал раскрыть Лизе рта Савелий. — Мы поначалу думали, что она их потеряла. Обыскали все — нету. Да и как потерять обе сережки враз? Рядом с ней, кроме меня, когда мы смотрели представление, никого не было, так что, кроме артистов, умыкнуть сережки больше не мог никто.
— Ты ходил кы ним, хузяин? — спросил Мамай.
— Ходил, но они не захотели отдать серьги. Теперь я хочу, чтобы к ним сходил ты. Они едут вторым классом, каюта нумер восемнадцать.
— Латны, хузяин, понял. Вы, — он деловито глянул на них обоих, — ступайте кы сибе. И жыдите меня. Я сыкоро.
* * *Яцек с Карменцитой, настоящее имя которой было Кира, что значит «госпожа», действительно уже легли спать, когда в дверь их каюты снова постучали.
— Открывать не будем, — безапелляционно заявила Кира и повернулась на бок.
Стук повторился. Потом на время стало тихо, а затем после непонятного скрежета дверь отворилась: Мамай, просунув финку в щель меж косяком и дверным полотном, отжал язычок замка и надавил крутым плечом на дверь.
Когда он вошел в спальню, на него уставились две пары испуганных глаз. Затем одни глаза зажглись злостью, а другие — животным страхом. Эти другие принадлежали великому и непревзойденному.
— Ты?! — сделались круглыми глаза у Мамая. — Какая встреща!
Мамай ухмыльнулся так, что у Гарольдини ослабло в животе и он еле сдержался, чтобы не обмочиться. Все же, кажется, он немного подмочил свои шелковые исподники.
— Ты, Яцек, послетний мудак. Кырыса. Ты — тухлый. Ты обул Парамона. Теперь ты обул его сына, моего хузяина. Бакланить я сы тобой не буду и скажу лишь один раз: верни серьги его женщины, инаще тебе — вилы.
Мамай демонстративно стал перебрасывать финку из одной руки в другую.
— Мамай, послушай, — присел на постели Яцек. — Я ведь…
— Отыдавай серьги, — недобро сощурил глаза до узких щелочек Мамай. — А то шибко худо будет. Я вит сы тобой не шучу.
Яцек кивнул. Он знал, что Мамай не шутит. И не шутил никогда, потому что не умел этого делать. Зато Мамай мог не моргнув глазом всадить финский нож аккурат в сердце, шарахнуть обухом топора по голове и ударом кулака свалить наземь любого, на кого бы указал его хозяин. Собственно, он этим и занимался, когда состоял в подручных у старика Парамона. На счету Мамая — про это ведали многие хитрованцы — было четырнадцать загубленных душ, и лишь одна из них была случайной.
Было это лет сорок назад, когда, будучи еще мальчишкой пятнадцати годов, Мамай, сирота Бадретдин Шакиров, прибился к фартовым, промышляющим кражами и разбоем. Обычно он стоял на шухере, а после удачного дела его нагружали ворованным рухлом, и он относил его на Хитровку барыге. Фартовые научили его драться, уходить от слежки и подарили первый в его жизни финский нож, с которым он никогда не расставался.
Через год фартовые пожелали проверить его в деле и поручили Шакирову первую самостоятельную работу: подломить галантерейную лавку на Солянке, купеческой улице с двухэтажными домами, первые этажи которых были почти сплошь заняты под лавки и магазины. Лавку эту давно пасли и знали, где ее хозяин держит хорошую кассу.
На дело пошли ночью. От кулаковского дома на Хитровке, где проживал теперь Бадретдин, до Солянки было всего ничего. Банда тихо и быстро дошла до нужного дома и встала, слившись с каменной оградой напротив.
— Ну, давай, паря, фарту тебе, — произнес напутствие главарь и легонько хлопнул Шакирова по плечу.
Бадретдин неслышно подошел к дому, выдавил, как учили, стекло и влез в лавку. Чиркнув спичкой, зажег огарок свечи и принялся осматриваться. Наконец взгляд его уперся в несгораемый шкаф с небольшим висячим замком. Касса! Бадретдин достал из-за пояса фомку и одним рывком оторвал от дужки корпус замка. Затем вынул дужку из петель и раскрыл дверцу.
Денежки лежали в специальном ящике с отделениями: одно для крупных купюр, другое для мелких, третье для серебра, четвертое отделение — для меди. Бадретдин выгреб все до единой полушки и уже рассовал деньги по карманам, как вдруг услышал:
— А теперь положи все на место.
Бадретдин вздрогнул и обернулся на голос, но со света в темноту не было ничего видно.
— Положи деньги на место, я сказал, у меня в руках ружье, — снова послышался голос.
Бадретдин быстро задул свечу и наугад бросился к окну. Прозвучал выстрел, от которого заложило уши; это хозяин лавки шарахнул сразу из двух стволов.
Бадретдин резко отпрыгнул в сторону, больно ударившись о полки, с которых посыпались портмоне, зонты, трости и прочая галантерейная дребедень, и пополз вдоль прилавка. А потом сильные руки схватили его за шиворот и поставили на пол:
— Попался, ворюга!
— Пусти, — прохрипел Бадретдин, пытаясь вырваться. — Пусти, гад.
— Я тебе покажу, гад, — услышал он возле самого уха, и тяжелый удар в челюсть опять опрокинул его на пол. Потом он получил удар ногой в живот, еще один, еще. Купчина, верно, вошел в раж, и удары сыпались один за другим.
«А ведь он забьет меня насмерть», — с ужасом подумалось Бадретдину.
После очередного удара хозяина лавки, изловчившись, он схватил его ногу и резко дернул на себя. Через мгновение послышался глухой звук, будто городошной битой ударили по железу, и долгий, невероятно долгий выдох. А затем наступила тишина.
Бадретдин приподнялся, нащупал в кармане огарок свечи, зажег. Огромный хозяин лавки лежал на полу возле несгораемого шкафа, и в его застывших глазах плясали крохотные огоньки от свечи в руках Шакирова. Из правого виска лавочника сочилась кровь, образуя ручейки, растекавшиеся по полу.
— Эко ты его приложил, — услышал Бадретдин знакомый голос. — Ладно, ступай отседова, дальше мы сами как-нибудь управимся.
Бадретдин оторвал взор от мертвяка и посмотрел на двух фартовых, неслышно вошедших в лавку.
— Итэ он сам башкой об жилесный ящик упал, — непослушными губами промолвил Бадретдин.
— Оправдываться перед легавыми будешь, — хмыкнул на это фартовый. — Ступай отседова, говорю.
Бадретдин послушно вышел из лавки. До рассвета оставалось совсем немного, и на небе уже виднелись свинцовые облака, предвещавшие неласковое хмурое утро. Неладно было и где-то внутри Бадретдина, и ему вдруг показалось, что мир стал каким-то другим, а может, другим стал он сам.
Шакиров прошел мимо худого мальчишки, стоящего на шухере, и сел прямо на землю, опершись спиной о каменную ограду. А в лавке фартовые собирали в две большие котомки галантерейный товар.
— Глянь, Гвоздь, какой здесь бардак, — сказал один другому, указывая на разбитую витрину и сломанные полки. — Будто Мамай прошел.
— Точно, Мамай, — ответил Гвоздь и хмыкнул, мысленно представив себе широкоскулое лицо Бадретдина с узкими щелочками глаз.
Когда они вышли из лавки, Гвоздь отдал свою котомку Бадретдину.
— Снесешь это нашему барыге. Лавы у него требуй сразу. Да смотри не продешеви, Мамай.
Так Бадретдин Шакиров стал Мамаем.
Весть о том, что молодой пацанчик с кликухой Мамай справился со здоровенным купчиной, спровадив его на тот свет, дошла до Парамона Мироновича уже утром. И туз Хитровки пожелал лично посмотреть на того пацанчика. Он завтракал, когда его подручные втолкнули к нему шестнадцатилетнего парня явно инородческой внешности.