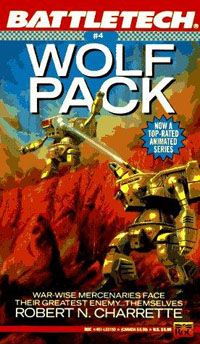Александр Бушков - Волчья стая
Кончив дело, она взялась было ластиться и ворковать что-то насчет того, что здесь ей чертовски надоело, и нельзя ли пристроить ее в его фирму секретаршей (хорошо хоть замуж не просилась, ума хватало), но Вадим положил ее на пол и выдал по полной программе, без особого изыска в позах, однако ж обстоятельно – и в классической «миссионерской» позе, и перевернувши. Одним словом, за свою сотню зеленых постарался получить по максимуму, после непривычно долгого воздержания буйная плоть никак не желала успокаиваться, так что напоследок произошел еще один сеанс игры на яшмовой флейте.
В общем, стороны расстались, довольные итогом встречи в низах: одна стала богаче на сотню баксов, второй – изгнал призрак спермотоксикоза. Пробираясь назад по пахнущему древесной гнильцой ходу, он не без злорадства вспомнил обожаемую женушку, имевшую обыкновение приставать с требованием мужской ласки в самые неподходящие моменты. Идеальная ситуация – и натрахался до одурения, и супруга в жизни не заподозрит, что муж сходил налево…
Когда он добрался до своего барака, ни у проволоки, ни у сортира уже не было работяг – кончили дело и убрались. Только у ворот имело место непонятное оживление, там кто-то, судя по крикам, качал права, орали в три голоса. На веранде, прислонившись к столбу в расслабленной позе, торчал Синий и, похоже, с живым интересом к этим воплям прислушивался.
– Что это там? – спросил Вадим, вытаскивая сигарету – картонная коробка с «Примой» стояла в кухне, и он прихватил пару пачек, благо никому не придет в голову считать.
– А это наша Маша разоряется, – охотно сообщил Синий. – Не выдержал-таки горячий восточный человек Диван-Беги, вдохновился моим примером и решил установить Машку раком. А та в шум и вопли, всю харю Дивану расцарапала, сейчас вертухаям жалится на притеснения… Где же это вы гуляете, мой друг? – он подошел вплотную и шумно втянул ноздрями воздух. – Сукой буду, несет от вас алкоголем и бабой…
– Да так, тут это… – промямлил Вадим.
– Понятно. Объяснил толково… Слушай, а посторонним туда не просочиться? Откуда ты грядешь?
– Да нет, в общем. Такая игра… – отчего-то не хотелось выдавать подземный ход, словно это его обесценивало.
– Понятно, – повторил Синий не без сожаления. – Ладно, каждый устраивается, как может, что тут скажешь… Ага, примолкли что-то. Не вернется Машка на нары, чует мое сердце, вот Визирь огорчится…
Василюк, действительно, в барак больше не вернулся.
Глава четвертая
Сюрприз на всю катушку
Он не то что открыл глаза – прямо-таки вскинулся на нарах, отчаянно моргая, разбуженный невероятной какофонией. Рядом ошалело ворочали головами Браток и Доцент.
Грохот происходил от опрокинутого бачка с питьевой водой, по которому что есть мочи лупил верзила в черной форме, надрываясь так, будто хотел сообщить о начале всеобщей ядерной войны. Он колотил по бачку какой-то длинной железякой, потом заорал, надсаживаясь:
– Подъем, козлы! Все на аппель!
Продравши, наконец, глаза, Вадим обнаружил, что эсэсовец абсолютно незнакомый – определенно из новых. От удивления и неожиданности даже не было желания и времени возмутиться как следует. Таких сюрпризов охрана здесь еще не выкидывала.
– Тебе делать нехрен, мудило? – громко возмутился Браток. – Охренел?
– Все на улицу! – орал эсэсовец как ни в чем не бывало. – До трех считаю! Раз, два…
– Два на ниточке, два на спирохете… – заворчал Браток.
Эсэсовец одним движением выдернул из кобуры огромный револьвер, оскалившись, махнул им в воздухе:
– Три! Ну, предупреждал…
Выскочил на веранду, исчез из виду, так что в поле зрения остававшихся в бараке была лишь рука с оружием, – и один за другим оглушительно захлопали выстрелы. Кто-то завопил истошным голосом – глаза моментально стало щипать, потом резать, словно в лицо кинули пригоршню песку, дыхание перехватило, градом покатились слезы. Бахнули еще два выстрела, охранник заорал:
– На улицу, мать вашу!
Но они уже без команды хлынули наружу – полуослепшие, сгибаясь, кашляя и отчаянно отфыркиваясь, сталкиваясь в дверях, отпихивая друг друга, босые, кое-кто в одних полосатых штанах.
Вадим вдруг получил по спине так, что на миг оборвалось дыхание, шарахнулся в сторону, сквозь заливавшие глаза потоки слез разглядел два силуэта, махавших дубинками с невероятной скоростью. Сзади кто-то заорал благим матом – по воплю и не определить кто. В следующую секунду мощный пинок придал ему нешуточное ускорение, и он, ничего не соображая, кинулся в противоположную сторону, чтобы только спастись от хлещущих ударов. Несся босиком, плача, кашляя и отплевываясь, борясь со спазмами рвоты.
Тут же и вывернуло – качественно, наизнанку. Теплая жидкость хлынула на босые ноги, но вскоре, как ни странно, полегчало. Он удержался, не стал тереть глаза руками, и оттого оклемался быстрее остальных. Обнаружил, что стоит на полпути от барака к аппельплацу, метрах в пяти позади перхают, плачут, шатаясь и слепо тыкаясь в стороны, соседи по бараку, одним махом заброшенные, как и он, в какой-то невозможный кошмар. На секунду мелькнула шизофреническая мысль, вызванная, надо полагать, тем, что он до сих пор не очнулся окончательно. Показалось вдруг, что грянула неведомая, фантастическая катастрофа, время лопнуло, как в импортном ужастике, как-то не так его замкнуло, и они все провалились в прошлое, в самый что ни на есть настоящий концлагерь, вокруг орут и хлещут дубинками взаправдашние эсэсовцы… Мысль эта пронзила его столь леденящим ужасом, что тело на миг показалось деревянным, чужим. Но сзади уже набегал верзила с занесенной дубинкой, и Вадим, не пытаясь больше думать и анализировать, метнулся вперед, к аппельплацу. Следом с матами гнали остальных.
Мотая головой, стряхивая последние обильные слезы, он все же не на шутку обрадовался, обнаружив, что вокруг все так и осталось п р е ж н е е – знакомый аппельплац, подновленная трибунка, бараки, сосны, проволока…
На плацу висела та же жуткая матерщина – и обитатели двух других мужских бараков, и все женщины уже были тут, точно так же, как давеча Вадим, бестолково шарахались туда-сюда с отупевшими от ужаса лицами, а рослые эсэсовцы равняли строй пинками и взмахами дубинок, слышались противные, глухие удары резиновых палок по живому, и погода, что ужаснее всего, стояла солнечная, прекраснейшая…
Происходящее просто-напросто не умещалось во взбудораженном сознании, а вот думать нормально как раз было и некогда. Казалось, весь окружающий мир состоит из матерящихся черных фигур, вокруг порхал тяжелый вихрь дубинок, ударявших всякий раз в самый неподходящий момент.
Басистый собачий лай, суета, ругань…
И вдруг, неким волшебством, все успокоилось, угомонилось, обрело жутковатый порядок. Оказалось, двойные шеренги уже выстроились на плацу, каждый стоял на своем месте, как вбитый в стенку гвоздь, приутих гам, улегся вихрь дубинок – только там и сям, справа, слева, сзади еще перхали, фыркали, отплевывались.
– Ауфштейн! Ауфштейн, швайне!
Наконец, шеренги застыли в предписанной неподвижности. Вадим, не поворачивая головы, стрелял глазами туда-сюда, пытаясь разглядеть все сразу. Картина была новая, небывалая, во всех смыслах неприятная. Мельком он зацепил взглядом смертельно испуганную мордашку супруги, но такие мелочи сейчас не интересовали. Лицом к заключенным, спиной к трибунке вытянулась цепочка эсэсовцев – не меньше десятка, рукава засучены по локоть, почти сплошь новые морды, не считая Вилли и Ганса-Чубайса, скалившегося шире всех. Исчезли прежние «шмайсеры» – раздобытые на какой-то киностудии, пригодные исключительно для пальбы холостыми – черномундирники, приняв позы из ковбойских фильмов, держали напоказ ружья-помповушки, а один красовался с коротким автоматом, новеньким на вид. Исчезли «вальтеры» и «парабеллумы», купленные опять-таки на киностудии, – из расстегнутых кобур торчали светлые и темные рукоятки газовых «Айсбергов», на запястье у каждого охранника висела длинная черная дубинка. Крайний слева держал на толстом плетеном поводке огромную кавказскую овчарку, ярко-рыжую, прямо-таки чудовищных габаритов, пес хрипел и таращился на шеренгу так, что оказавшемуся в первом ряду Вадиму стало не по себе – еще более муторно, если это только возможно.
Там же, слева, чуть отступив от собаки, служившей своего рода шлагбаумом меж эсэсовцами и этой троицей, стояли Василюк и еще двое – в прежних полосатых балахонах, но с такими же газовиками на поясе, с дубинками в руках. У каждого из троих на рукаве красовалась широкая белая повязка, где крупными черными буквами изображено непонятное слово «САРО».
«Тьфу ты, черт!» – вдруг сообразил Вадим, ощутив совершенно неуместную в данный момент гордость за свою сообразительность. Это совсем не по-русски, это латинский шрифт. Никакое это не «саро», это «капо». Что ж, логично…